Историко-фонетическое данные (использование глухих придыхательных ph, th и ch) указывает на датировку данного «путеводителя по Аравии» временем не ранее рубежа 2–1 вв. до н. э. С другой стороны, для датировки данного «путеводителя» может быть привлечена историко-географическая информация. Армия Элия Галла испытывала огромные трудности на просторах Аравии во многом потому, что сам руководитель похода не имел никакой точной информации по географии Аравии. Как путь от Левке Коме до Мариба, так и обратная дорога, заняла у римского войска значительно больше времени, чем у груженого каравана потому, что к середине 20-х гг. 1 в. до н. э. в римском Египте подобного «путеводителя» не было. Упоминание в рассматриваемом фрагменте «Естествознания» ‘Адена и неупоминание Сан‘а’ также дает возможность предположительно датировать рассмотренный фрагмент. Первые упоминания о Сан‘а’ относятся ко времени Кариб’ила Ватара Йухан‘има I[3], т. е. к ≈ 50-80 гг. н. э. Возникнуть же этот «путеводитель» мог лишь до начала трансокеанской навигации по направлению к Индии, так как ‘Аден, судя по данным «Перипла Эритрейского моря», к середине 1 в. н. э. уже потерял свое значение перевалочного пункта для индийских и египетских торговцев (26: 8. 30).
Если верно предположение об иудейском или, что менее вероятно, арамейском происхождении автора анализируемого списка топонимов и этнонимов, то составителем этого «путеводителя» мог быть какой-либо иудей или набатеец, сопровождавший Элия Галла в походе и оставшийся в Южной Аравии после его завершения или пришедший в Южную Аравию с торговыми целями после римского вторжения. Чрезвычайно показательна в этом отношении находка набатейской посвятительной надписи начала I в. н. э. в Сирвахе, расположенном на полпути между Марибом и Сан‘а’[4].
Раздел III. 2. (««Счастливая Аравия» в «Географии» Клавдия Птолемея») посвящен реконструкции карты Аравийского полуострова в важнейшем источнике по истории античной географии – «Географии» Клавдии Птолемея. Подразделы III. 2. 0 – III. 2. 5 являются вводными. В них дается общее представление о данном источнике: содержание карты Аравии у Птолемея, состояние ее изученности, методы работы Птолемея, его источники, особенности передачи аравийских названий на карте в греческой транскрипции. Этнические и географические названия на карте «Счастливой Аравии» Клавдия Птолемея и других античных авторов полностью в первый и последний раз исследовались А. Шпренгером[5]. Подавляющее большинство предложенных А. Шпренгером отождествлений и локализаций неверны, что объясняется неразвитостью источниковой доступной ему базы, в особенности в том, что касается Южной Аравии. За небольшим исключением названия с карты «Счастливой Аравии» Клавдия Птолемея были включены в виде кратких заметок в «Real Enzyklopdie der classischen Altertumswissenschft» и рассмотрены Д. Х. Мюллером, А. Громанном, Х. фон Виссманном. В значительной степени эти статьи лишь воспроизводят мнение А. Шпренгера, часть названий оставлена без отождествлений.
Как правило, в литературе выделяются сложности работы с картой Аравии Птолемея из-за ее многочисленных неточностей[6].

Сам Птолемей писал, что точное обозначение какого-либо места на карте возможно только тогда, когда не только точно известно расстояние от предыдущего места, но и направление движения от него (1. 2. 3), т. е. когда эти условия не выполняются, локализация не может быть точной. Опираясь на отчеты путешественников о длине переходов от одного места до другого, Птолемей воспроизводил их ошибочное, отличающееся на 200–300 км., расположение; он и сам подчеркивал, что его карты не могут быть точными и что он использует лишь немногочисленные верифицируемые данные в качестве отправной точки (1. 4. 1).
В основе всех карт «Географии Птолемея» лежит, таким образом, сеть торговых путей; его данные включают в себя все возможные ошибки в расстояниях, направлениях, названиях, которые путешественники и торговцы могли сообщить. Реконструкция карты Счастливой Аравии Птолемея позволит, однако, точнее представить распространение и направления сети трансаравийских торговых путей; кроме того, это ценнейший и недооцененный источник по древнеаравийской диалектологии. Наилучшим методом при реконструкции этой карты является следование порядку перечислений и принципам передачи семитских названий в иноязычной среде.
Установление особенности передачи аравийских географических и этнических названий на карте «Счастливой Аравии» Клавдия Птолемея (раздел III. 2. 4) является ключом к точности предложенных реконструкций. Необходимо принять во внимание, что языки и диалекты (арамейский, арабский, древнюжноаравийский, аккадский, предшественники современных южноаравийских языков), распространенные на территории Аравийского полуострова, обладали различным набором фонем, что приводило к тому, что одна и та же греческая фонема могла отражать совершенно разные исходные единицы.

Кроме того, не совпадает набор консонантный набор семитских языков в целом с согласными в древнегреческим. В связи с этим при реконструкции географических и этнических названий на карте Аравии, переданных Клавдием Птолемеем, необходимо отказаться от принципа прямого сопоставления согласных, традиционно и неукоснительно применяющимся в исследованиях по исторической географии доисламской Аравии. Наиболее характерными для историко-фонетической и географической реконструкции являются следующие из почти 300 названий: ῞Ιππος ὄρος и κώμη (8–9) < Ḍuba’ – арабский ḍ соответствует арамейскому ʿ – lingua franca на Ближнем Востоке, следовательно, при передаче в греческой соответствует гласному ι; ῾Ραυνάθου κώμη (11) < *Lbnt (совр. аль-Ваджх) – прослеживается переход l > r и спирантизация b > b > υ; Κόπαρ (20) < Ǧār Κέντος (23) < Ǧudda – прослеживается диалектальное произношение g как q и сохранение w в корнях mediae infirmae в виде *p; Θιάληλλα (69) < Ṣalāla, Θαδῖται (130) < ṬWD – прослеживается спирантизация эмфатических ṣ, ṭ; Κάψινα (96) < Ḥabšīn, Κορομανὶς (118) < арам. ḥrūmānā, Σαρακηνοί < Sirḥān – прослеживается соответствие ḥ > κ (под влиянием арамейского); Γέῤῥα (104) < al-‘Uqayr – прослеживается «выпадение» ларингального под влиянием аккадского; Μαλλάβα (111) < Mišʻāb – прослеживается переход š > λ под влиянием аккадского; Γιράθα (210) < QRYT – прослеживается произношение q как g, свойственное арабским бедуинским диалектам; Μακοράβα (213) < араб. maġrib – прослеживается произношение ġ как q (κ), характерное для диалекта Южного Хиджаза; Πολυβίου (278)< Halba – прослеживается произношение ларингальных как полугласных, передаваемых в виде *p (π).
Эти и другие особенности передачи этнических и географических названий на карте Счастливой Аравии из «Географии» Клавдия Птолемея, подтверждаемые и на других примерах, указывают на то, что территория Аравийского полуострова может быть подразделена на несколько зон, в которых преобладали различные из выделенных особенностей. Некоторые из зон демонстрируют ряд общин черт:
Северо-Западная и вся Восточная Аравия демонстрирует стойкое преобладание арамейского языка;
Западная Аравия (Хиджаз и Тихама) близка к Юго-Западной Аравии способом передачи g через эмфатический q (греч. κ). Однако, если в Западной Аравии наблюдается оглушение палатального g и его «трансформация» в велярный q, то в Восточной, Юго-Восточной и Центральной Аравии имеет место обратный процесс: велярный q озвончается до палатального g, являя собой оппозицию Хиджазу и Юго-Западной Аравии;
В Северо-Восточной Аравии наблюдается передача межзубного ṯ через f; на Юго-Востоке же f передавался через ṯ;
Восточная Аравия (территория совр. ОАЭ) противостоит другим регионам полуострова передачей фонемы ḥ через ḫ (греч. κ), чередованием š/l и выпадением начального слога с ларингальным;
Такие явления, как спирантизация губных и зубных, спирантизация эмфатических ṭ и q, а также чередование y/l, замена гортанных полугласными с последующей передачей через лабиальные и лабиодентальные[7], и обратный процесс – усиление лабиодентальных до гортанных[8], – свойственны всем регионам Аравийского полуострова.
Разработка правил историко-фонетических реконструкций при передаче аравийских этнических и географических названий в античных источниках позволила впервые осуществить реконструкцию базового источника для любого исследования по исторической географии Аравийского полуострова – карты Аравии для периода ранее сер. 2. в. н. э. Эта реконструкция является основой для составления карты торговых путей, по которым осуществлялись контакты Южной Аравии с Восточной Африкой и Средиземноморьем (анализ в главах IV–VI) и Индией (в главе VIII).
Глава IV («Караванные маршруты в Южной и Западной Аравии») (Стр. 272– 322) посвящена детальной реконструкции маршрутов, соединявших Южную Аравию, Восточную Африку и Средиземноморью в их хронологическом и географическом развитии.
Разделы IV. 1. 1 («Дофар. Мосха Лимен. Самарум») – IV. 1. 2 («Дофар ↔ Шабва») посвящены начальному этапу важнейшей трансаравийской торговой трассы – «Пути благовоний» – от Дофара – родины ладана до столицы Хадрамаута Шабвы. Точных сведений о том, как должен был проходить путь каравана на начальном этапе «Пути благовоний» от ладаноносных плантаций в ‘Омане до Шабвы, нет ни в южноаравийских, ни в античных, ни в арабских источниках. Его реконструкция является предположительной. Однако тот факт, что между основанием основных хадрамаутских портов – Самарума и Кана’ прошло несколько столетий, говорит в пользу длительного, вплоть до начала н. э. и исключительного использования сухопутных маршрутов из Дофара в Шабву.
На основе данных ДЮА надписей, опыта путешественников Нового и Новейшего времени и средневековой арабской историко-географической литературы караванные пути из Дофара в Шабву могут быть реконструированы следующим образом: Хор Рори ↔ Мудайй (Muḍayy) ↔ Мзул ↔ Хабарут ↔
↔ Санау ↔ Самуд ↔ Тарим или
↔ Вади Дашам ↔ Вади Дару ↔ Вади Сариф ↔ Вади Кидйат ↔ Вади Махра ↔ Вади Адахи ↔ Маидж ↔ Далами ↔ Дахал ↔ Тайна (Вади Хадрамаут) ↔ Тарим
Тарим ↔ Сай’ун ↔ Шибам ↔ аль-Катн ↔ Хаура ↔ Би’р Хамад ↔ Шабва.
Раздел IV. 1. 3 «Шабва ↔ Тимна‘ ↔ Мариб ↔ Наджран») посвящен реконструкции путей от столицы Хадрамаута – места принудительного сбора благовоний – до главной развилки на «Пути благовоний» в Южной Аравии – оазиса Наджран.
На этом пути выделяется несколько направлений движения. Эти направления, очевидно, использовались нерегулярно, в зависимости от политической обстановки в регионе:
1. Шабва ↔ Вади аль-Джауф (через аль-‘Абр) (раздел IV. 1. 3. 1). Этот путь напрямую соединял столицу Хадрамаута с регионом обитания основных действующих сил на самих торговых путях – минейцами. Использование этого пути позволяло избегать прохода, аследовательно и уплаты пошлин в Катабане и Саба’.
2. Шабва (?) ↔ Шис‘а (раздел IV. 1. 3. 2). Этот маршрут выходил из Хадрамаута к дороге, соединявшей Наджран с Восточной Аравией. На то, что этот путь мог использоваться, указывает хадрамаутское граффито RES 1850 из Шис‘а (предположительно 1–2 вв. н. э.)[9] – небольшого горного массива, расположенного на полпути между Би’р Хима и Каукабом, т. е. в 110–115 км. к северу–северо-востоку от Наджрана – на начальном этапе пути, связывавшем Наджран с аль-Йамама:
ḥrṯm/bn/lgnn/ḥḍrmyn/hdy/ʿrn/ymnytn/wšʾmytn/bgyšm/bn/ḥḍrmt[10].
Это граффито не поддается однозначному толкованию. Можно предположить как то, что из Хадрамаута шел сам караван, так и то, что из Хадрамаута происходил только сопровождавший его отряд. Наиболее вероятным представляется, что караван, упомянутый в граффито RES 1850, шел из Хадрамаута в сопровождении военного отряда для его охраны Аравии в направлении Шис‘а, где его должны были встретить либо торговцы из Восточной с тем, чтобы продолжить путь в Восточную Аравию, либо набатейцы, чтобы продолжить путь в Северо-Западную Аравию. Сложность этого маршрута через пески ар-Руб‘ аль-Хали заставляет предположить, что караванами с грузом благовоний использовался он редко, – в тех случаях, когда по тем или иным причинам – например, война с Катабаном и/или Саба’ – использование маршрута через оазисы на границе с Рамлат ас-Саб‘атайн не было возможным. Количество переходов, которое нужно было затратить на преодоление этого маршрута, может являться только предположительным.
3. Шабва ↔ Наджран (через аль-‘Абр) (раздел IV. 1. 3. 3)
Прямых и безусловных аргументов в пользу существования и систематического использования пути от Шабвы до Наджрана в период доисламской древности нет. На использование данного пути указывает, однако, ряд косвенных данных из ДЮА надписей: граффито Ph 203a, надписи Ja 577/8–15, надписи RES 3022 = M 247/2.
4. Шабва ↔ зу-Байн / Вади аш-Шудайф (раздел IV. 1. 3. 4)
Согласно тексту надпсией Kortler 2 и Kortler 3, в устье Вади аш-Шудайф, расположенном на границе в ар-Руба‘ аль-Хали между Ма‘ином на юге и Наджраном на севере, стояла сторожевая башня, с которой представители Наджрана наблюдали за безопасностью дороги между Ма‘ином и Наджраном. Важность Вади аш-Шудайф объясняется еще и тем, что в ней располагался город Ханан – центральное поселение племени ’амир – главных поставщиков верблюдов и проводников караванов в Южной Аравии. Эти обстоятельства заставляют предположить существование пути из Шабвы через аль-‘Абр и Мушайник в устье Вади аш-Шудайф.
Следующее направление вело из Шабвы на юго-запад – на территорию Катабана и далее через Саба’ в Наджран. Его использование, вероятно, восходит ко времени преобладания Катабана во всей Южной Аравии – т. е. к 4–2 вв. до н. э., когда караваны с благовониями были принуждены проходить через Катабан и уплачивать пошлины в Тимна‘. Раздел IV. 1. 3. 5 («Шабва ↔ Тимна‘») посвящен реконструкции сети маршрутов между столицами Хадрамаута и Катабана.
Один из путей мог вести через пустыню Рамлат ас-Саб‘атайн. Из трудности продвижения по высоким дюнам этот путь вряд ли использовался регулярно. Более вероятным выглядит использование путей через Вади Джирдан, Нисаб, Хаджар Йахирр (в устье Вади Марха). Эти пути использовались, вероятно, в различные периоды: период расцвета Хаджар Йахирр приходится на первую половину 1 тысячелетия до н. э., а Нисаба – на период поздней древности.
Раздел IV. 1. 3. 6. («Кана’ ↔ Шабва») посвящен анализу путей, соединявших Кана’ – главный перевалочный пункт в морской торговле Южной Аравии со Средиземноморьем, Индией и Восточной Африкой – с Шабвой. Порт Кана’ был соединен цепью сухих речных долин с Шабвой. Его основание было стимулировано не только выгодой более быстрой морской транспортировки благовоний из Дофара вдоль побережья Аденского залива, но и упадком Самарума.
Вывоз товаров из Кана’ в Шабву был возможен по двум направлениям:
1. северо-восточнее Кана’ через Вади Хаджар, ведший в северо-западном направлении через укрепления Калат в аль-Мабна’, и ‘Акабат аль-Футура, выводившее в Вади ‘Ирма. По Вади ‘Ирма караванная дорога выводила к Шабве с юго-востока;
2. Кана’ ↔ Джил‘а (≈ 20 км.) ↔ ан-Нушайма (≈ 35 км.) ↔ Рудун ≈ 20 км. ↔ Накб аль-Хаджар ≈ 27 км. ↔ оазис ‘Аззан через Рахтан или напрямую (≈ 15 км.) ↔ Вади ‘Амакин ↔ ар-Рауда (≈ 30 км.) ↔ Хусн аль-Каура (≈ 15 км.) ↔ Матра ас-Са‘ид ≈ 25 км. ↔ Микраб (≈ 15 км) ↔ Са‘адa (в Вади Джирдан ≈ 13 км.) ↔ Карн Забйа ≈ 30 км. ↔ Шабва ≈ 15 км.
Предполагается, что ладан мог вывозиться из Кана’ в Тимна‘ – столицу Катабана без захода в Шабву[11]. Это предположение обсуждается в разделе (IV. 1. 3. 7). Подъем могущества Катабана предшествовал, однако, самому основанию порта Кана’. Поэтому вероятность активного использования такого пути крайне невелика.
Определенные трудности встают при реконструкции путей между столицами Катабана и Саба’. Их реконструкции посвящен раздел IV. 1. 3. 8. («Тимна‘ ↔ Мариб»). Выйдя из Тимна‘, караваны продолжали свой путь в западном направлении. Перед караваном снова вставал выбор из нескольких возможностей:
1. прямой путь через Рамлат ас-Саб‘атайн представляется мало вероятным из-за сложного рельефа местности;
2. Тимна‘ ↔ Вади Джуба ↔ Мариб. Этот путь вел на запад через проход Наджд Маркад в богатую водой Вади Хариб. В Наджд Маркад имеется конструкция, напоминающая выложенный брусчаткой коридор. Возможно, основным его назначением было облегчение пересчета и обложения налогом проходящих из Тимна‘ караванов. Далее путь каравана мог лежать через проход Йаллабак в Вади Малиха, откуда путь поворачивал в северо-западном направлении следовал через Тарик Мал‘а. В 13 км. к востоку от Наджджа караван выходил в Вади Джуба, откуда открывала прямая дорога на Мариб.
3. Путь от Хаджар ан-Наб по внутренним районам вади Марха к Хаджар бин Хумайд через проход Манкал. Этот путь использовался в тот период, когда столицы Аусана и Катабана были перенесены в Хаджар ан-Наб и Хаджар бин Хумайд соответственно. Археологическое исследование Хаджар бин Хумайд (древний ḏ-ĠYLM), просуществовавшего с начала 1 тыс. до н. э. до 4–5 вв. н. э., выявило следы контактов с торгового населения города с Малой Азией, Восточной Африкой, Египтом и Месопотамией. Город активно участвовал в интрарегиональной торговле[12].
Достигнув Мариба по одному из данных путей перед караванами открывалась относительно прямая дорога через всю Западную Аравию в сторону Средиземноморья. В разделе IV. 1. 3. 9. («Мариб ↔ Вади аль-Джауф») приводятся свидетельства участия сабейцев в торговле благовониями. Роль Мариба как транзитного пункта на торговых маршрутах, вероятно, ограничивается периодом 4–2 вв. до н. э., когда, проходя через Катабан, караваны неизбежно проходили через Мариб.
Дальнейший путь из Ма‘ина в сторону Наджрана реконструируется в разделе IV. 1. 3. 10 («Вади аль-Джауф ↔ Наджран»). Наиболее вероятным течением маршрута было движение вдоль западной кромки пустыни ар-Руб‘ аль-Хали. На этом пути караваны избегают перепада высот, климатически для караванов он благоприятен, на всем его протяжении имеются источники воды. Предполагается, что караваны могли использовать и путь через плато Барат. Этот путь мог идти через Нашшан, Харам, Хабб и Майан. Х. фон Виссманн указывает и на существование другого пути в этом районе. От аль-Мараши дорога ведет в северном направлении к Сук аль-‘Анан – центральному, по его мнению, городу на территории племени ’амир[13]. От Сук аль-Анан дорога по Вади ’Амлах выходит к поселению аль-Бука‘, расположенному в ≈ 50 км. юго-восточнее Наджрана. Однако дороги, ведущие в этом направлении, труднопреодолимы для верблюдов из-за сильного перепада высот.
Анализу дальнейшего пути от Наджрана к Газе – главному рынку сбыта благовоний в Восточном Средиземноморье – посвящен раздел IV. 1. 4 «Наджран ↔ Газа»). Главными пунктами на начальном этапе этого пути были Бир Хима и Джабаль Каукаб, откуда дорога поворачивала на северо-восток в сторону торговых оазисов Центральной и Восточной Аравии, Биша (древний ṮML).
Раздел IV. 1. 4. 2 («Биша ↔ ‘Укад ↔ аль-Мадина») посвящен наиболее дискуссионному отрезку пути, на котором лежала (или не лежала) совр.

Мекка – крупнейший торговый центр, начиная с периода раннего Ислама. Согласно недавней реконструкции А. де Мегре[14] этот маршрут не подразумевает остановки ни в Мекке, ни в ат-Та’ифе; соответственно, предполагается, что этот маршрут проходил по лавовым полям между Биша и аль-Мадиной. Однако отсутствие воды на этих полях и непроходимый для верблюдов рельеф местности делают эту реконструкцию крайне мало вероятной. Путь Биша ↔ ат-Та’иф ↔ Мекка (раздел IV. 1. 4. 3) обусловлен, прежде всего, геологически. А анализ соответствующих высказываний Плиния Старшего (NH. NH. 12. 98–99) показывает, что торговые пути в Западной Аравии проходили через «набатейских трогодитов», известных как ихтиофагов из Перипла Эритрейского моря (20: 7. 6), т. е. прибрежных жителей Южного Хиджаза. Тем не менее, никакие данные античной традиции не говорят в пользу того, что в первые века н. э. Мекка уже существовала и, тем более, являлась важным торговым центром. Топоним Μακοράβα, обозначенный на карте Счастливой Аравии Клавдия Птолемея (213), должен интерпретироваться как maġrib, т. е. никакой связи с Меккой он не имеет. Тем не менее, в период джахилиййи (6 в.) Мекка, несомненно, обладала важным значением в трансаравийской торговле, и южноаравийские, восточноафриканские благовония и специи занимали одно из определяющих мест в товарной номенклатуре мекканцев.



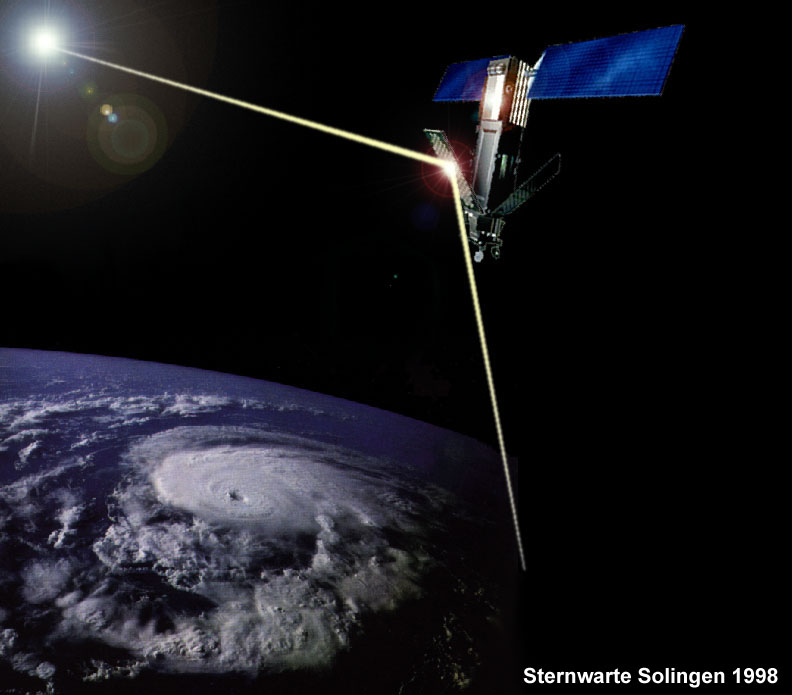 Все явления погоды — облака, дождь, снег, ветер и т. д.— происходят главным образом в тропосфере. Средняя толщина ее около 11 км.
Все явления погоды — облака, дождь, снег, ветер и т. д.— происходят главным образом в тропосфере. Средняя толщина ее около 11 км.













